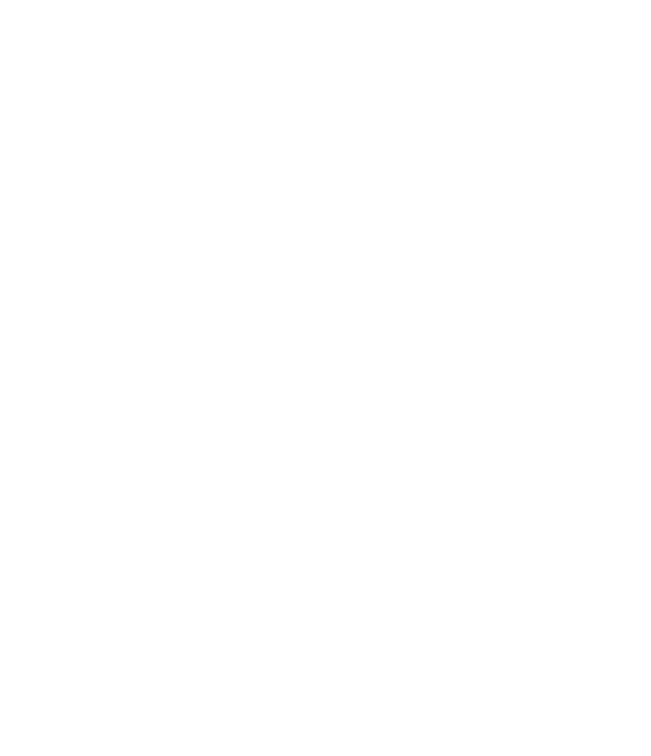08 февраля 2025, 06:00
Цены на уран бьют рекорды: почему он так нужен ученым
Ученые пытаются отыскать уран в Мировом океане

Чтобы процесс удешевить, китайские ученые начали искать уран не в недрах земли, а в морских пучинах. Чтобы извлечь металл из морской воды, исследователи соорудили специальную ловушку.
Уран – не единственный элемент, за которым охотятся химики. В их списке еще 17 редкоземельных металлов. Впрочем, они не такие уж и редкие, как кажется из названия. Их запасов в недрах Земли в миллионы тонн больше, чем, например, серебра и золота.
В итоге за год химики смогли произвести около полутора тонн ценных металлов.
Открытие повергло в шок: оказывается, кристалл образуется от флюоцерита – еще более редкого минерала. Его находили лишь в нескольких точках земного шара.
Редкие металлы встречаются не только на Земле, но и в космосе. Один из них – тетратенит. Его частицы не толще человеческого волоса обнаружили в метеорите, который упал 60 лет назад на юго-западе Франции. Правда, ценный элемент ученые смогли обнаружить только в 1990-е годы.
До этого считалось, что подобная форма создавалась миллионы лет при сверхмедленном охлаждении. А оказалось, что при нагреве на это уходит гораздо меньше времени.
Читайте также